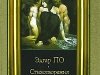Вильям Вильсон
пренебрег чисто внешним сходством (а только его и замечают в портретах
люди туповатые), зато, к немалой моей досаде, мастерски воспроизводил дух
оригинала, что видно было мне одному.
Я уже не раз упоминал об отвратительном мне покровительственном тоне,
который он взял в отношении меня, и о его частом назойливом вмешательстве
в мои дела. Вмешательство его нередко выражалось в непрошеных советах; при
этом он не советовал прямо и открыто, но говорил намеками, обиняками. Я
выслушивал эти советы с отвращением, которое год от году росло. Однако
ныне, в столь далекий от той поры день, я хотел бы отдать должное моему
сопернику, признать хотя бы, что ни один его совет не мог бы привести меня
к тем ошибкам и глупостям, какие столь свойственны людям молодым и,
казалось бы, неопытным; что нравственным чутьем, если не талантливостью
натуры и жизненной умудренностью, он во всяком случае намного меня
превосходил и что, если бы я не так часто отвергал его советы, сообщаемые
тем многозначительным шепотом, который тогда я слишком горячо ненавидел и
слишком ожесточенно презирал, я, возможно, был бы сегодня лучше, а значит,
и счастливей.
Но при том, как все складывалось, под его постылым надзором я в конце
концов дошел до крайней степени раздражения и день ото дня все более
открыто возмущался его, как мне казалось, несносной самонадеянностью. Я
уже говорил, что в первые годы в школе чувство мое к нему легко могло бы
перерасти в дружбу; но в последние школьные месяцы, хотя навязчивость его,
без сомнения, несколько уменьшилась, чувство мое почти в той же степени
приблизилось к настоящей ненависти. Как-то раз он, мне кажется, это
заметил и после того стал избегать меня или делал вид, что избегает.
Если память мне не изменяет, примерно в это же самое время мы однажды
крупно поспорили, и в пылу гнева он отбросил привычную осторожность и
заговорил и повел себя с несвойственной ему прямотой — и тут я заметил (а
может быть, мне почудилось) в его речи, выражении лица, во всем облике
нечто такое, что сперва испугало меня, а потом живо заинтересовало, ибо в
памяти моей всплыли картины младенчества,- беспорядочно теснящиеся смутные
воспоминания той далекой поры, когда сама память еще не родилась. Лучше
всего я передам чувство, которое угнетало меня в тот миг, если скажу, что
не мог отделаться от ощущения, будто с человеком, который стоял сейчас
передо мною, я был уже когда-то знаком, давным-давно, во времена
бесконечно далекие. Иллюзия эта, однако, тотчас же рассеялась; и упоминаю
я о ней единственно для того, чтобы обозначить день, когда я в последний
раз беседовал со своим странным тезкой.
В громадном старом доме, с его бесчисленными помещениями, было
несколько смежных больших комнат, где спали почти все воспитанники. Было
там, однако (это неизбежно в столь неудобно построенном здании), много
каморок, образованных не слишком разумно возведенными стенами и
перегородками; изобретательный директор доктор Брэнсби их тоже приспособил
под дортуары, хотя первоначально они предназначались под чуланы и каждый
мог вместить лишь одного человека. В такой вот спаленке помещался Вильсон.
Однажды ночью, в конце пятого года пребывания в пансионе и сразу
после только что описанной ссоры, я дождался, когда все погрузились в сон,
встал и, с лампой в руке, узкими запутанными переходами прокрался из своей
спальни в спальню соперника. Я уже давно замышлял сыграть с ним одну из
тех злых и грубых шуток, какие до сих пор мне неизменно не удавались. И
вот теперь я решил осуществить свой замысел и дать ему почувствовать всю
меру переполнявшей меня злобы. Добравшись до его каморки, я оставил
прикрытую колпаком лампу за дверью, а сам бесшумно переступил порог. Я
шагнул вперед и прислушался к спокойному дыханию моего тезки. Уверившись,
что он спит, я возвратился в коридор, взял лампу и с нею вновь приблизился
к постели. Она была завешена плотным пологом, который, следуя своему
плану, я потихоньку отодвинул,- лицо спящего залил яркий свет, и я впился
в него взором. Я взглянул — и вдруг оцепенел, меня обдало холодом. Грудь
моя тяжело вздымалась, колени задрожали, меня объял беспричинный и,
однако, нестерпимый ужас. Я перевел дух и поднес лампу еще ближе к его
лицу. Неужели это… это лицо Вильяма Вильсона? Я, конечно, видел, что это
его лицо, и все же не мог этому поверить, и меня била лихорадочная дрожь.
Что же в этом лице так меня поразило? Я смотрел, а в голове моей кружился
вихрь беспорядочных мыслей. Когда он бодрствовал, в суете дня, он был не
такой, как сейчас, нет, конечно, не такой. То же имя! Те же черты! Тот же
день прибытия в пансион! Да еще упорное и бессмысленное подражание моей
походке, голосу, моим привычкам и повадкам! Неужели то, что представилось
моему взору,- всего лишь следствие привычных упражнений в язвительном
подражании? Охваченный ужасом, я с трепетом погасил лампу, бесшумно
выскользнул из каморки и в тот же час покинул стены старого пансиона,
чтобы уже никогда туда не возвращаться.
После нескольких месяцев, проведенных дома в совершенной праздности,
я был определен в Итон. Короткого этого времени оказалось довольно, чтобы
память о событиях, происшедших в пансионе доктора Брэнсби, потускнела, по
крайней мере, я вспоминал о них с совсем иными чувствами. Все это больше
не казалось таким подлинным и таким трагичным. Я уже способен был
усомниться в свидетельстве своих чувств, да и вспоминал все это не часто,
и всякий раз удивлялся человеческому легковерию, и с улыбкой думал о том,
сколь живое воображение я унаследовал от предков. Характер жизни, которую
я вел в Итоне, нисколько не способствовал тому, чтобы у меня поубавилось
подобного скептицизма. Водоворот безрассудств и легкомысленных
развлечений, в который я кинулся так сразу очертя голову, мгновенно смыл
все, кроме пены последних часов, поглотил все серьезные, устоявшиеся
впечатления, оставил в памяти лишь пустые сумасбродства прежнего моего
существования.
Я не желаю, однако, описывать шаг за шагом прискорбное распутство,
предаваясь которому мы бросали вызов всем законам и ускользали от строгого
ока нашего колледжа. Три года безрассудств протекли без пользы, у меня
лишь укоренились порочные привычки, да я еще как-то вдруг вырос и стал
очень высок ростом; и вот однажды после недели бесшабашного разгула я
пригласил к себе на тайную пирушку небольшую компанию самых беспутных
своих приятелей. Мы собрались поздним вечером, ибо так уж у нас было
заведено, чтобы попойки затягивались до утра. Вино лилось рекой, и в
других, быть может более опасных, соблазнах тоже не было недостатка; так
что, когда на востоке стал пробиваться хмурый рассвет, сумасбродная наша
попойка была еще в самом разгаре. Отчаянно раскрасневшись от карт и вина,
я упрямо провозглашал тост, более обыкновенного богохульный, как вдруг
внимание мое отвлекла порывисто открывшаяся дверь и встревоженный голос
моего слуги. Не входя в комнату, он доложил, что какой-то человек, который
очень торопится, желает говорить со мною в прихожей.
Крайне возбужденный выпитым вином, я скорее обрадовался, нежели
удивился нежданному гостю. Нетвердыми шагами я тотчас вышел в прихожую. В
этом тесном помещении с низким потолком не было лампы; и сейчас сюда не
проникал никакой свет, лишь серый свет утра пробивался чрез полукруглое
окно. Едва переступив порог, я увидел юношу примерно моего роста, в белом
казимировом сюртуке такого же новомодного покроя, что и тот, какой был на
мне. Только это я и заметил в полутьме, но лица гостя разглядеть не мог.
Когда я вошел, он поспешно шагнул мне навстречу, порывисто и нетерпеливо
схватил меня за руку и прошептал мне в самое ухо два слова: «Вильям
Вильсон».
Я мигом отрезвел.
В повадке незнакомца, в том, как задрожал у меня перед глазами его
поднятый палец, было что-то такое, что безмерно меня удивило, но не это
взволновало меня до глубины души. Мрачное предостережение, что таилось в
его своеобразном, тихом, шипящем шепоте, а более всего то, как он произнес
эти несколько простых и знакомых слотов, его тон, самая интонация,
всколыхнувшая в душе моей тысячи бессвязных воспоминаний из давнего
прошлого, ударили меня, точно я коснулся гальванической батареи. И еще
прежде, чем я пришел в себя, гостя и след простыл.
Хотя случай этот сильно подействовал на мое расстроенное воображение,
однако же впечатление от него быстро рассеялось. Правда, первые несколько
недель я всерьез наводил справки либо предавался мрачным раздумьям. Я не
пытался утаить от себя, что это все та же личность, которая столь упорно
мешалась в мои дела и допекала меня своими вкрадчивыми советами. Но кто
такой этот Вильсон? Откуда он взялся? Какую преследовал цель? Ни на один
вопрос я ответа не нашел, узнал лишь, что в вечер того дня, когда я
скрылся из заведения доктора Брэнсби, он тоже оттуда уехал, ибо дома у
него случилось какое-то несчастье. А вскорости я совсем перестал о нем
думать, ибо мое внимание поглотил предполагаемый отъезд в Оксфорд. Туда я
скоро и в самом деле отправился, а нерасчетливое тщеславие моих родителей
снабдило меня таким гардеробом и годовым содержанием, что я мог купаться в
роскоши, столь уже дорогой моему сердцу,- соперничать в расточительстве с
высокомернейшими наследниками самых богатых и знатных семейств
Великобритании.
Теперь я мог грешить, не зная удержу, необузданно предаваться пороку,
и пылкий нрав мой взыграл с удвоенной силой,- с презрением отбросив все
приличия, я кинулся в омут разгула. Но нелепо было бы рассказывать здесь в
-
Tweet

 (Рейтинг +15)
(Рейтинг +15)